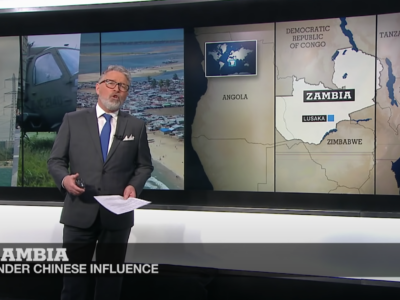«Вода и газ». Фото пользователя Flickr Sin.Fronteras. Используется по лицензии CC 2.0.
Эта статья — третья в серии, первоначально опубликованной автором в Medium. По ссылкам вы можете прочитать первый и второй выпуск.
Я просыпаюсь в страхе, вглядываясь в темноту широко открытыми глазами. Я не знаю, что пробудило меня, откуда проистекает чувство парализующего замешательства. Второй взрыв — я выскакиваю из постели, всё ещё не понимая, что происходит. Через несколько минут приходит осознание: какофония грохочущих кастрюль и сковород, кричащие соседи, шум на улице. К этому времени в мою квартиру начал просачиваться слезоточивый газ, заполняя пространство, окружая меня густым, удушающим облаком. Моё сердце подскакивает, страх бьётся в моей груди. Я не заплачу, — повторяю я себе, истощённая, но не желающая сдаваться. — Я не заплачу.
Я спотыкаюсь в тёмной квартире. Ещё один взрыв. Почти 11 вечера, конец особенно напряжённого и сложного дня. Я легла спать меньше чем час назад, потрясённая новостями о жестоких репрессиях и ужасающих избиениях гражданских лиц полицией. Утомлённая беспомощным разочарованием тем фактом, что я заложник в собственной стране. Я аккуратно пробираюсь по квартире с вытянутыми вперёд руками, прислушиваясь к металлическим звукам стучащих кастрюль, ритмический треск разрядки слезоточивых ружей. В Венесуэле эти дни, судя по всему, никогда не закончатся. Насилие остаётся с нами, продолжается, распространяется. Нормальность — собрание боли и страхов. Закрытых дверей и общего состояния подозрительности. Так мы выживаем уже больше десятилетия.
Когда я выглядываю из окна, я вижу токсический дым, поднимающийся с улицы. Он не может оказаться так высоко, чтобы серьёзно навредить мне, ведь я живу на десятом этаже, но запах явно достигает меня, прогорклым жалом, которое заставляет меня чихать и ловить ртом воздух. Группа национальных гвардейцев крадётся в темноте, с ружьями в руках, стреляя вверх. Я почти не могу отличить их силуэты от уличных фонарей. Они формируют линию в середине площади. На них шлемы и бронежилеты. И они стреляют. Они стреляют по домам, вниз по пустынной улице. Раз, два, три. Застыв на месте, я смотрю на них со сбивающим с толку чувством сюрреальности и скептицизма. Один из ударов находит цель и отзывается эхом; меня рвёт, с руками за головой я трясусь с головы до ног. Я не заплачу, — говорю я себе, теперь с яростью. — Я не заплачу.
Некоторые мои соседи выглядывают из окон, жестикулируя и крича со всей силы. Один вытаскивает большую кастрюлю, которая сверкает под молочным свечением фонарика в его руке. Он бьёт по ней кулаком, в эйфории от злости и боли. Я вижу, как он наклоняется в мрак ночи, крича так громко, как может. Какофония метала и голоса сливается в единый звук.
«К чёрту солдат! К чёрту их всех!» — кричит он. Голос у него хриплый и усталый. «К чёрту их! Здесь семьи!»
К нему присоединяется другой мужчина. Он тоже кричит, извергая лозунги, оскорбления, пошлости. Отовсюду поднимаются голоса нестройным шумом. Снизу отвечают только взрывы. Ещё один, ещё один. Слезоточивый газ становится гуще, всё больше душит. Яркая белая стена длиной во всю улицу закрывает обзор. Вид оттеняется чем-то призрачным, жестоким. Немыслимые виды улиц, повседневный пейзаж места, которое я вижу каждый день на протяжении двадцати лет.
Больно дышать. Я тру глаза и кашляю. Моя соседка зовёт меня из своего окна. «Иди к двери», — кричит она. Я еле слышу её голос через грохочущие сковороды и крики вокруг. Новый взрыв. «Убийцы!» Крик множится, поднимается, катится, грохочет и течёт. На улице национальные гвардейцы занимают новые позиции, продвигаясь вперёд. Я вижу, как их силуэты появляются и исчезают в жемчужной темноте. Быстрая вспышка света. И звук ещё одного взрыва поглощает, душит мир. Страх сжимает и закрывает моё горло.
Когда я открываю дверь, моя соседка приобнимает меня за плечи и вкладывает мне в руки влажную тряпку. «Помой этим лицо, — шепчет она, — чтобы из тебя ушёл газ, чтобы ты не отравилась». Она склоняется головой к моей. «Будет хуже», — добавляет она. Она трясётся от страха, как я. Я сжимаю её руку так крепко, как могу. Я не знаю, показалось ли ей также.
«Они кидают бомбы по домам, — говорит она мне нервным шёпотом. — Говорят, что на углу улицы они пытаются закинуть какие-нибудь внутрь».
Она твёрдо пропихивает меня в коридор. Там ютится группа соседей, полускрытая мраком. В углу плачет женщина — помню, что живёт в соседней квартире. Её всхлипы кажутся маленькими, хрупкими, полными боли. Моя соседка пожимает плечами и оглядывается. Я чувствую её бессилие. Как своё. Как и всех остальных, вероятно.
«Мы не знаем, что делать. Люди только что поднялись с нижних этажей, — тихо объясняет она мне. — Давайте просто подождём здесь, пока всё пройдёт. Приложи это к лицу, чтобы дышать».
Я повинуюсь. Тряпка вымочена в какой-то жидкости с любопытным цитрусовым запахом, который я не сразу узнаю. Я сползаю на пол около двери. Моё сердце бьётся так сильно, что я едва могу дышать, моё сжимающееся горло захватывает меня в медленной, ослепляющей панике, которую я еле могу сдержать. Я слышу новый взрыв. Разъярённый крик. Звук бьющегося стекла. Всхлипы женщины в коридоре становятся громче и звучат, как детская паника. Страх везде, как невыносимая вонь, которая крадёт у меня дыхание.
Я закрываю глаза руками и пытаюсь сохранить спокойствие. Я не заплачу, — говорю я себе. — Я не заплачу, повторяю я. Мы слышим ещё один взрыв.
Улица уже опустела, повсюду валяется обгоревший мусор и разбитое стекло. Незначительная сцена какой-то случайной военной операции. Я аккуратно пробираюсь вперёд, пытаясь не споткнуться. Женщина несколькими метрами впереди трясёт головой и пинает что-то, что выглядит как искореженные останки пластикового контейнера.
«Знаешь, из-за чего больнее всего?» — говорит она, когда я догоняю. Её лицо печально. Как и моё, вероятно — я не знаю, что будет дальше со всеми этими протестами. Ты чувствуешь гнев, ярость, но не знаешь, что будет дальше.
Вместе мы проходим ещё несколько метров. Обгоревшие останки одного из бесчисленных политических плакатов, расклеенных по всему городу, плавают в грязной луже. Я смотрю на него, и на меня находит чувство глубокого отвращения. Я думаю обо всех годах политических сражений, полемических дебатов. Страдальческой ненависти, выплёвываемой во всех направлениях из извращённой нетерпимости и фанатизма. Почти двух десятилетиях слепой борьбы, которая продолжается и отступает по капризу власть имущих, противостояния, подогреваемого отторжением и братоубийственной злобой. Как близки мы к пропасти, спрашиваю я, и заставляю себя идти дальше. Как близки мы к последнему сражению? Придёт ли когда-нибудь это время?
Ветхий забор всё ещё стоит в двух кварталах от места, где я живу, грязный и почерневший от сажи там, где по дереву прошёл огонь. Кто-то сказал мне, что несколько слезоточивых бомб, запущенных той ночью, приземлились рядом с этим покосившимся укреплением. Среди столкновений полицейских в форме и протестующих эта дешёвая стена дерева и пластика была потрёпана камнями и разбитыми бутылками. Я смотрю на следы пепла, оставленные огнём, и пытаюсь представить: группа захватчиков прячется в темноте на насыпи, полной мусора, слушая те же взрывы, что и я, дыша тем же слезоточивым газом, неспособные спастись или защитить себя. Я убыстряю шаг, чувствуя тошноту и головокружение. Напуганная навязчивым воздействие страхов, реальных и воображаемых.
Выживший среди группы местных, укрывшихся на строительной площадке, смотрит на меня, защищаясь одним из своих последних кусков цинкового листа. Его лицо напряжено и впало. Как и моё, напоминаю я себе. Я слышу, как где-то позади захлопывается сломанная деревянная дверь. Она издаёт пустой звук, маленький, бесполезный. Он заставляет меня вспомнить о насилии, смерти и токсическом облаке, окутавшем улицу прошлой ночью. Мы, которые должны были унаследовать удовлетворение требований общества, преданные верующие революции Уго Чавеса, вместо этого стали жертвой колоссального исторического обмана. Кто они, жертвы и враги на передовой этого бушующего противостояния? Кем будут выжившие?
Везде остаётся вонь слезоточивого газа. Невидимый след, который напоминает о существовании чего-то жалкого, что невозможного адекватно описать. Я стою посередине улицы, размышляя о хрупкой нормальности вокруг меня. Есть что-то невозможное в виде банальности, инерции, насилия на другой стороне воображаемой границы. Вот так мы научились жить после 20 лет, любой и каждый день, с агрессией, бранью и страхами, которые теперь стал обычной частью нашей повседневной жизни. Когда мы поняли, что мы узники сломанной и жестокой системы? Как ещё много нам нужно, чтобы понять настоящий масштаб разворачивающейся трагедии? Какая невообразимая катастрофа будет следующей?
Я очень мало знаю о гражданской войне, даже если иногда я думаю, что это не так. Я ничего не знаю о геноциде и массовых убийствах, хотя так много читала о них книг, статьей и личных историй. Единственное, что я знаю, — это беспомощность, это чувство безымянного ужаса, которое наполняет всё, на что я смотрю, всё, о чём я думаю. Я смотрю на прохожего, который медленно тащится по улице, женщин, сжимающих детей на руках, мужчин, бегущих через дорогу. Сколько из нас понимают, что действительно значит трагедия насилия? Сколько из нас на самом деле осознают травматическую цену противостояние, которое превращает нас в непримиримых врагов? Я стою и смотрю на улицу, на которой выросла, её маленькие детали, места, которые я знаю сердцем. Следы насилия повсюду. Когда насилие стало частью моей жизни? Повседневного пейзажа?
Сама я не знаю или даже хуже: я не помню. И возможность потери памяти, потери того единого взгляда одновременно на прошлое и будущее, больнее, чем всё остальное, сложнее для понимания, чем другие мысли. Заложница собственной памяти.
В пекарне мужчина громко рассуждает об уличных протестах в Каракасе. Его голос неровен, зол, полон боли; это голос для спора. Он не делает заявление в поддержку конкретной стороны и не выражает политического мнения; скорее, это искренняя, обеспокоенная жалоба. Ноша, которую мы несём каждый день.
«Что-то должно произойти, к лучшему или к худшему. Что-то из этого всего должно произойти, — повторяет он, пожимая плечами, тряся головой. — Что-то должно произойти, чтобы люди поняли, как нас всех обманули. Всех из нас — никто не в безопасности».
Молчание. Посетители в очереди у стойки отводят глаза, трясут головой, нервно прочищают горло. Мужчина сжимает кулаки, его лицо горит яростью.
«Что, я лгу? Нас всех поимели, ведь так?»
«Проблема в том, что мы так привыкли игнорировать то, что происходит, мы отворачиваемся и стараемся продолжать жить, как раньше. Никто не помнит, что мы должны встать и бороться, — говорит женщина рядом с кассой. — В этой стране все просто продолжают жить, как раньше, и действовать так, как будто ничего не происходит».
Меня раздражает покорный, почти скучающий тон, которым она говорит. Но я не могу перестать думать о правде в её словах. За последние полтора десятилетия при администрации Чавеса большинство венесуэльцев каждый день испытывают страх, надежду, ужас и опустошение; пробел без имени или определения, чья пустота, судя по всему, определяет лучше всего остального тот момент в истории, в котором мы живём. Или, возможно, вовсе и нет имени для этого сломанного мягкого безразличия, этого треснувшего истощения, ломающего наше гражданское самосознание, это простое восприятие реальности, в которой мы живём изо дня в день. Это глухая борьба с небытием, против отчаяния и страданий.
Общий гул одобрения. Мужчина вздыхает, горбя плечи. Эмоции красят его щёки, заставляют сжимать кулаки. Я понимаю его раздражение, его усталость. Они встречаются с тишиной. Сцена повторяется тысячу раз, отражая искажённое лицо страны, глубоко раненной страхом.
«Венесуэла распадается на части, — говорит мужчина. — Мы распадаемся, и мне хотелось бы знать, осознаёт ли это хоть кто-нибудь из нас».
Я мысленно возвращаюсь к его словам, когда бреду по улице среди обломков неравной битвы, сломленная незначительной раной, которую невозможно излечить, вечной невозможности узнать страну, в которой я живу. Наше национальное самосознание превратилось в смесь горя и медленного, бесконечного, глубокого страдания. Это чувство того, что ты нигде не свой, что у тебя нет истории.
Сидя в гостиной своего дома, я стараюсь не заплакать. Но, конечно, у меня не получается, из-за глубокой тоски, которую я везде ношу; из-за ужасного страха повседневности, из-за этой Венесуэлы, в которой я должна выживать, хоть она и не моя. Я думаю о том, как долго я могу противостоять этой реальности, избегать её, чтобы она меня не сломала. Что будет дальше? И, конечно, ответов у меня нет. Их никогда не было, и я не думаю, что будут. И это взгляд в пустоту — в пропасть — трудно вынести. Глубокое чувство страха стало образом жизни.