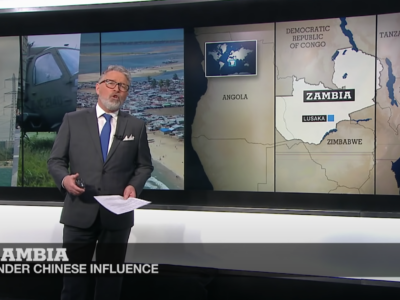Полицейские готовятся. Фото пользователя Flickr Родриго Суареса. Используется по лицензии CC 2.0.
Эта статья — вторая в серии, первоначально опубликованной автором в Medium. Первый выпуск вы можете прочитать здесь.
«Вам страшно?»
Спрашивает меня мой пятилетний сосед, ждущий лифта рядом со своей матерью. Маленькое бледное лицо, фиолетовые мешки под глазами. Его мать бросает на меня обеспокоенный и усталый взгляд. Я пожимаю плечами, не зная, как ответить.
«Немного, но я стараюсь не обращать внимания», — в конце концов говорю я.
«Моя мама тоже боится, — тихо говорит он. — Каждую ночь мы все дома пугаемся из-за шума на улице. Мы не знаем, куда бежать».
Моя соседка вздыхает, протягивает руку и гладит мальчика по щеке. Он обнимает её, крепко прижимаясь к её талии. Меня парализует смутное, ледяное чувство тоски. Я хочу сказать правильную вещь, утешить его, сказать что-то, что не только отгонит страх, но защитит его от той реальности, которую должны выносить мы взрослые. Но, конечно, я не могу — возможно, нет ничего, что я могла бы сказать, — поэтому я молчу, из разочарования и беспомощности.
В лифте трое соседей молча смотрят на нас, пока мы поднимаемся. Среди бормотания вежливых приветствий кто-то начинает говорить о том, что они читали в социальных сетях о намеренных атаках на определённые части нашего района, присоединившихся к протестам, о насилии на улицах, ночной стрельбе в разных районах Каракаса. Я смотрю на мальчика, прячущего голову в теле матери. Его маленькие руки сжимают её одежду, его тело напряжено. Его мать вздыхает и обвивает его руками. Но нет способа защититься от информации, от напряжения, удушающего климата страны в таком кризисе, как наша.
Я видела, как рос этот мальчик. Я слышала его детские крики по ночам и натыкалась на него, когда он делал свои первые шаги в коридорах моего дома. Его семья — часть повседневного фона моей жизни, случайных встреч там и тут. Неожиданно я думаю о том, что за пять лет жизни он не знал ничего, кроме страданий, которые наполняют каждый уголок нашей жизни изо дня в день. Что он перенёс бедность, постоянный страх, ношу вездесущего подавляющего страха. Сломанное, израненное поколение. Неопределённость как единственный ответ будущему.
Когда двери открываются, мать берёт мальчика на руки, и я вижу, как они уходят по не полностью освещённому коридору. Мальчик смотрит на меня через плечо матери: грустные глаза, напряжённые щёки. Его мать целует его в голову, что-то шепчет ему — возможно, именно то, что не пришло мне, чтобы успокоить его, — и они уходят по улице: опущенные головы, жёсткие тела. И я стою, думая о всём, что мы потеряли в молчащей пустоте, опустошенные и убитые горем, в израненной стране.
Я иду по улице, смотря на проходящих мимо людей. У всех тот отягощенный взгляд мальчика, который должен быть и у меня, вот только мне уже нет дела. За последние несколько недель мы пережили суровость полуночных наступлений на наш район, постоянного страха того, что может случиться во время нападений незнакомцев на мотоциклах или двух ногах. Необъяснимые взрывы, потоки шальных пуль — всё стало обычным делом. Неожиданно насилие пропитывает всё — часть маленьких привычек и восприятия нормальности. Меня переполняет лишь идея той покорности, которую это символизирует, и всё же реальности, которая берёт верх, когда пытаешься убедить себя, что нужно продолжать, что нужно найти новое чувство нормальности. Что? — спрашиваю я себя с некоторым неистовством. Какую нормальность можно сейчас найти в этой стране?
Ответов на такие вопросы, конечно, нет. Я думаю об этом, когда стою в очереди за булкой хлеба, когда иду по улице, пытаясь обходить сгоревший мусор, в котором ещё можно почувствовать запах слезоточивого газа. Когда я останавливаюсь перед каменными стенами вокруг некоторых зданий на главной площади и замечаю ряд обгоревших отверстий, пахнущих порохом. Проводя по ним пальцами, я чувствую отвращение, ужас. Какую-то неопределённую горечь, которая во многом связана с неизвестностью. Знание того, что я живу в стране, где, вполне вероятно, какая-то пуля предназначена для меня.
После обеда всё мирно. Улица выглядит так же, как выглядела все 20 лет, когда я смотрела на неё из окна своей студии. Атмосфера тихого и обманчивого спокойствия, с дрожащими на ветру цветущими деревьями и редкими звуками транспорта. И меня поражает, насколько легко скрыть очевидное, грубость того, через что мы проходим. Налёт разбитой и непостижимой нормальности.
Военный переходит улицу со своим орудием «для порядка» через грудь. Издали это выглядит угрожающе — ясно видны магазин и бронежилет. Я вижу, как он обходит площадь, продвигается, останавливается на углу. Он ставит ружьё на землю, стоит на месте. Пару минут спустя к нему присоединяются ещё два офицера. И на вид обычная улица превращается в нечто другое. Угроза лишь подразумевается, но игнорировать её невозможно. Есть что-то аллегоричное в этой картине, в том, что полицейское государство присутствует везде, видимая часть между всеми представлениями о повседневной рутине.
Когда мне было десять, может быть, немного меньше, я впервые увидела танкетку, эту огромную военную машину, которая становится частью городского пейзажа Венесуэлы, когда протесты набирают силу. Только произошёл первый переворот, и мою улицу охраняли военнослужащие, которые пугали меня своей формой, своим выставленным напоказ оружием, своим агрессивным видом. Но яснее всего из того времени я помню колоссальный силуэт танка, заблокировавшего улицу перед моей школой. Металлическая громада, старая и опасная на вид. Невозможное создание, чьё присутствие я не могла ни объяснить, ни оправдать. Я стояла рядом с ней, нервно держа за руку свою бабушку, не зная, почему её форма, чётко вырисовывающаяся на фоне послеполуденного солнца, приводила меня в такой ужас. Я до сих пор не знаю, что тот неуместный объект действительно делал со всем, что я знала, но страх был рядом, страх был настоящим.
Я выросла в стране, окружённой общим состоянием подозрения, защищённой милитаризмом, вбитой в землю оливково-зелёным сапогом. Когда я смотрю на группу стоящих с некоторым неудобством и тревогой под солнцем солдат, я понимаю, что не помню времени, когда насилие не было бы частью моей жизни, когда я не жила в страхе нападения со стороны тех, кто хочет захватить или удержать власть. И я думаю о девочке, которой я была, которая легко — и с беспокоящей быстротой — привыкла к танку на улице, вооружённым военным на каждом углу, восприятию подавления как части всего в повседневной жизни. Что становится причиной многолетней, молчаливой жестокости в ребёнке? Тот постоянный взгляд на агрессию как на часть вашей идентичности или всё, что вы есть и чем вы стремитесь быть?
Не так давно я сказала другу, что я так давно напугана, что не знаю, как стряхнуть это чувство. Или скорее как справляться с этой смесью горечи, усталости и страха, которая никак не ослабевает. Она везде, в каждом уголке повседневной жизни, в бесполезных попытках поддержать здравый ум, спокойствие. Или просто надежду. Страх — часть каждой моей идеи об этой стране, том, как я живу, том, как я хочу жить.
Группа военных идёт к углу улицы и исчезает за деревьями. Но хотя их больше не видно, вся улица будто запятнана и загрязнена этим насилием, которое бьётся в сердце всего. Когда я закрываю окно, мои руки трясутся. И страх снова здесь, потому что по другому быть не может. Потому что Венесуэла отражается во всех маленьких вещах, которые напоминают нам о разломе, трещинах, боли.
Когда я выглядываю в коридор, чтобы выбросить мусор, я встречаю своего маленького соседа. Он играет на лестнице, прыгая туда-сюда. Он бросает мячик, ловит его, снова бросает. Ритмический звук почти расслабляет. Он заставляет меня думать о невинных временах, что причиняет боль — сейчас они для меня неуловимы.
Его мать смотрит за ним с лестницы. Я сажусь рядом с ней. Она вздыхает и смотрит на меня грустными, усталыми глазами — точно такими же, как у её сына.
«Иногда я включаю кино, музыку и телепередачи для него на полную громкость, чтобы он не слышал слезоточивые бомбы. Я запираю его, закрываю окна и затыкаю все дыры тканью, пропитанной в соде. Но… этого недостаточно. Как это может быть?»
Мальчик берёт мяч и бежит вверх по лестнице, прикидываясь, что наносит удар. Я слышу, как он рассказывает воображаемую игру, громко смеясь. И я чувствую странную, всепроникающую, необъяснимую боль. Его мать качает головой, сжимает кулаки так, что костяшки белеют. Её горе так немедленно и очевидно, что оно становится и моим. Я понимаю его с абсолютной ясностью.
«Мы пытаемся уехать из страны, но у нас нет денег. Мы застряли здесь, — она вздыхает, лицо напряжено, глаза сухи. Страдание так медленно, что навсегда изменило выражение её лица. — И это не сильно ранит нас, его отца и меня. Мы можем со всем этим справиться. Но он…»
Мальчик снова сбегает и кидает мне мячик. Я неуклюже держу его на ладони. Он машет руками и просит бросить его обратно. «Мы проиграем, — кричит он. — Бросай его обратно!» Я делаю бросок, он возится с ним, недолго прицеливается и возвращается в смой маленький и хрупкий мир, дарующий ему утешение. Его мать качает головой, трёт глаза ладонью.
«Нам нужно найти способ выжить, — шепчет она. — Но кроме того, как не дать этому всему отправить наше будущее к чёрту?»
Я думаю об этих словах, когда лежу на кровати, прислушиваясь к звукам на улице, внимая отдалённым взрывам, звукам, которые могут принадлежать шальным пулям там и здесь.
Уничтожило ли насилие моё будущее? Эта медленная, бесконечная струйка в этой стране, которая причиняет такие глубокие раны? Такая старая боль, что я не могу не думать, что, возможно, это непоправимо. От этой мысли моё тело напрягается, мне становится больно. Я вздыхаю, погружаясь головой в подушку. И вдруг всё вокруг меня становится неопределённостью. Неопределённость посреди напряжённого молчания ночи, и эхо взрывов, которые будто становятся всё ближе и громче с каждой проходящей ночью.