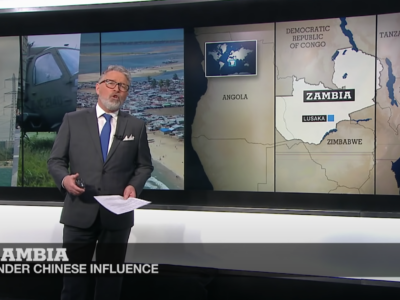«Для моего друга и таких, как он, Венесуэла является не чем иным, как ярким примером крушения основ государства: того сосуществования различий, которое может поддерживать общество и, возможно, культурной традиции. Что теперь представляет из себя Венесуэла? Что представляем из себя мы, венесуэльцы, пережившие это историческое поражение?» Скриншот из документального фильма «Caracazo en Venezuela», доступного на Vimeo.
Эта статья — первая в серии, первоначально опубликованной автором в Medium. Второй выпуск вы можете прочитать здесь.
Несколько дней назад один мой старый друг заявил, что когда эмигрировал, понял, что ненавидит быть венесуэльцем. Именно так и сказал. Я не знала, что ответить, глядя по Skype на его лицо со смутным ощущением тревоги и горечи.
— Но это же… ужасная мысль.
— Это правда. Достаточно уехать из страны, чтобы понять, насколько мы жалки.
Я заморгала, ком страха и ярости сжался в горле. Похоже, друг заметил мое беспокойство и понимающе покачал головой.
— Вижу, что ты меня не понимаешь.
— Чего я не понимаю, так это представления о стране бедствия и хаоса, которое включает в себя и национальность, и историю, и то, что ты есть. Не то, чтобы я отрицала происходящее здесь, это не так. Но то, что ты говоришь, это что-то другое.
— Выходит, ты более националистически настроена, чем тебе казалось?
Этот вопрос меня и разозлил, и обескуражил. Это странная смесь чувств, имеющих непосредственное отношение к тому, как я все еще понимаю страну, а главное, к тому, как я проживаю ее. Я отчетливо ощущаю беспокойство при мыслях о Венесуэле, стране, где я родилась и выросла, и которая превратилась в своего рода символ боли, отчаяния и разочарования, которые испытывают большинство венесуэльцев. Как будто национальность — эта абстрактная и смутная идея, благодаря которой мы относим себя к более общему представлению о месте, которое считаем своим — тоже разрушена и потеряна, как и многие другие вещи, которые бы могли определить нашу личность. Возможно, так и есть, думаю я с беспокойством. Быть может, «быть венесуэльцем» больше не обозначает быть теми, кто мы есть, а стало больше похожим на страх, отражение всех маленьких несчастий, которые мы носим в себе.
— Дело не в национализме, — говорю я ему, — а в том, что сочетание того кризиса, в котором мы живем, и того, как мы его воспринимаем, кажется мне несправедливым. Мы прибегаем к крайности, которая нас заставляет презирать все, чем может быть Венесуэла помимо того кризиса, который мы испытываем. Вот что я имею в виду.
— Мы и есть этот кризис, — говорит мой друг почти обреченно. — Неужели ты не видишь? Дело не только в том, что политическая система оказалась исторической аферой, но и в общей покорности, в смирении с тем, что происходит, что непосредственно связано с тем, во что превратилась страна в последние годы. И не говори, что венесуэльцы не несут ответственности за этот кризис. Что не их бездействие, безответственность, безразличие привели страну на край пропасти. Нельзя быть такой наивной!
Я и не наивная. Но вещи воспринимаются по-другому, когда кризис является частью твоей жизни. То ли из-за страха, который поселился в тебе, неотвязного ощущения отчаяния и беззащитности, нелегко осознать ситуацию, в которой оказалась страна, когда ты сам в нее погружен. Однако идея о том, что мы должны нести ответственность за то, как мы переживаем эту ситуацию, только лишь из-за того, что мы не знаем, как справиться с ней, мне кажется возмутительной. Да, я допускаю, что у меня нет целостного представления о том политико-экономическом монстре, который стоит у нас на пути. Полагаю, что не обходится без эскапистских, порой упрощенных, взглядов на всё усложняющуюся ситуацию. Но есть разница между восприятием того, что мы проживаем (и тем, какое влияние оно оказывает на нас), и тем, что эти наши ощущения разрушают все остальное. Они нас лишают даже исторической памяти.
— Венесуэла оказалась идеальным местом для того, чтобы такой человек, как Чавес, сделал то, что оно сделал, — утверждает мой друг. — Разве ты этого не видишь? Он превратил общественные разногласия, зависть и пассивность венесуэльцев в политическое оружие. Ненавидеть — это правильно, показывать пальцем и клеймить позором других стало приемлемым. Чавизм сделал ненависть прибыльной.
Мой друг уехал из страны 10 лет назад, спасаясь бегством от того, на что был способен чавизм. Тогда страна еще находилась в относительно стабильном положении, поддерживая обманчивую видимость стремящейся к совершенству демократии. Но уже тогда было ясно, что решения харизматичного и безответственного лидера нас вели к разрушительному кризису, который десять лет спустя затронет все сферы. Я помню наш последний разговор перед его отъездом, его страх при мысли о том, что недееспособная система, построенная на контроле, может натворить. И еще более тревожный знак — тот факт, что граждане один за другим искренне отдавали свои голоса за государственное руководство, одержимое идеей воздвигнуть политическую систему на обломках страны.
— Коммунизм никого не прощает, — говорил он, — и тем более в Венесуэле. Венесуэльский народ копает себе могилу со своим собственным взглядом на государственный социализм. И делает он это благодаря тому, что воспринимает страну как проект.
Должно было пройти десятилетие, чтобы я поняла эту мысль. Чтобы осознала масштабы и почувствовала последствия политического проекта, главной целью которого был государственный контроль над каждой частью человеческой жизни. Автократия, построенная на ненависти, изоляции и наказании за непохожесть на других. Но все равно, я не могу признать, что страна — как существующий субъект и будущая перспектива — должна быть «в ответе» за это невыносимое положение. Что историческое разочарование в чавизме превратилось в атаку на всё, чем была, и главное, чем может быть Венесуэла.
— Ты не веришь, потому что всё это нормально для тебя: это венесуэльская южная горячность, зависимость от государства, вульгарность и неотесанность. Ты считаешь, что страна неизбежно должна быть частью этой древней традиции пресмыкательства перед властью. Дух рабства, как говорят некоторые аналитики. И я поверил в то, что это так. Существует взгляд на страну, основанный на обмане, конфронтации и ненависти. Это неизбежно и становится всё хуже, и вызывает всё больше беспокойства. Как ты считаешь, что есть чавизм, как не отражение всего худшего в нас?
Размышления моего друга могли бы показаться оскорбительными и высокомерными, если бы не искренняя обеспокоенность в его голосе. И ведь, наверное, дилемма заключается не только в идее страны как проекта, над которым нужно работать в четыре руки, но еще и в неудачной попытке понять, чем может быть Венесуэла, в свете того, чем являемся мы сами. Для моего друга и таких, как он, Венесуэла является не чем иным, как ярким примером крушения основ государства: того сосуществования различий, которое может поддерживать общество и, возможно, культурной традиции. Что теперь представляет из себя Венесуэла? Что представляем из себя мы, венесуэльцы, пережившие это историческое поражение? Я не знаю, говорю я, пытаясь сдержать слезы, и наверное, эта неопределенность — самое болезненное следствие ежедневно ухудшающейся ситуации, которая в какой-то момент становится уже невыносимой.
— Венесуэльцы создали чавизм по своему образу и подобию, а не наоборот, как считается, — заключает мой друг, и говорит это тихо и с сожалением. — Что есть чавизм в действительности? Это все недостатки и горести народа, переведенные в политику. Это рантьеризм, доведенный до опасного политического уровня. Это атмосфера скрытой ненависти, которая всегда была позором для венесуэльцев. Чавизм не теряет своих позиций, потому что добрая часть венесуэльцев неспособна бороться со своими собственными несчастьями. Потому что чавизм — это воплощение монстра внутри монстра. Невероятно сложная идея того, как мы воспринимаем себя и как понимаем нашу страну. Венесуэла — это страна чавизма еще до появления Чавеса.
Я часами думаю о его словах и определенно буду думать об этом еще не одну неделю. Со смешанным ощущением боли и страха, которое сложно объяснить. Как ты воспринимаешь и понимаешь историческую ответственность, когда всё худшее в той стране, где ты родился, является частью концепции власти?