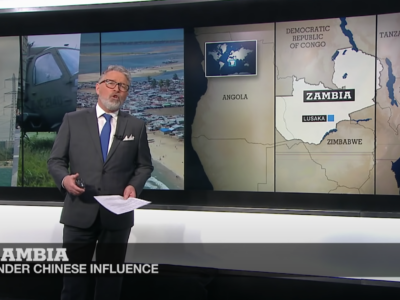«Они хотели лишить семьи права ненавидеть режим, который убивал, бросал в тюрьмы и похищал их детей». Сцена в Салах-эд-Дине, Алеппо, Сирия. ФОТО: Freedom House (CC BY 2.0).
[Примечание редактора: оригинал данной статьи был опубликован в октябре 2015 года; некоторые реалии и высказываемые мнения могли устареть].
Эта статья публикуется в рамках цикла статей блогера и активистки Марсель Шейваро, описывающего реалии жизни в Сирии в ходе продолжающегося вооружённого конфликта между силами, лояльными к правящему режиму, и оппозиционерами, которые хотят свергнуть его.
Я встречаюсь со своим психотерапевтом каждую неделю без какого-либо чувства стыда, распространённого в нашем обществе касательно этой практики. Но внутри себя я ношу бочку вины, которая забирает всё, что осталось в моём сердце от любви к жизни.
Полдень среды — в это время я ускользаю от работы, чтобы говорить о практически всём в своей жизни. В конце сеанса психотерапевт говорит мне: «Но вы не говорите ни о чём личном». И я удивлена, настигнута глупым желанием всегда казаться правой или одерживать верх в любом споре (что, как говорит близкий друг, мне всегда удаётся), показать моему терапевту, что он неправ.
Я терплю неудачу!
Я не совсем уверена, что составляет «личное» и «общественное» в нормальном существовании сирийца. Моя друзья — друзья сопротивления; наши жизни переплелись благодаря тюрьме, и побегу, и памяти нашего погибшего друга. Единственный человек из моей семьи, с которым я сохраняю контакт, — моя сестра, которой пришлось покинуть дом из-за связанных со мной соображений безопасности. Её переезд — часть кровоизлияния из Сирии в остальной мир.
Моя работа — это продолжение координации для революции.
И даже моя одежда отражает мой пол на встречах, на которых я предаю своё право как женщины выглядеть более серьёзно согласно обычным нормам общества. Или, возможно, всё наоборот: это отражение моей свободы перед лицом непростительного вмешательства в личную жизнь женщин.
Моё тело? Я не уверена, люблю я его или нет. Одно из моих убеждений — красота бывает разной, вопреки существующей в медиа единой категоризации того, какой она должна быть.
Я живу в городе, с которым я не знаю, как достичь мира. Из доступных вариантов он ближе всего Сирии и наиболее реален. Мои чувства к нему не важны, когда речь идёт о «большем благе дела».
Я читаю только о нашей революции или о революциях других, иногда об их войнах — сейчас, например, я тяготею к чтению о гражданской войне в Ливане. Я пишу только о революции и о том, как она бушует внутри меня.
Некоторое время назад у меня было свидание с одним мужчиной. Он начал разговор, возможно, чтобы ублажить меня, спросив, знаю ли я, что в Женеве скоро пройдёт третий раунд переговоров. Я забыла, каково это: встречаться кем-нибудь нормальным и говорить о нормальных вещах. Я даже не знаю новых песен, кроме революционных, написанных за последние пять лет.
«Личного» нет совсем.
Даже признание в первом параграфе о походах к психотерапевту сделано, чтобы воодушевить подобных мне людей на признание своей депрессии. Это конструктивное признание. В моей голове сидит вооружённый бандит и мои счастливые мысли замусорены бомбами. Тысячи контрольных пунктов и снайперов останавливают потоки мыслей.
В начале революции сторонники Башара Асада обвиняли нас в том, что наша оппозиционность режиму «основана на личных чувствах». Они хотели лишить семьи права ненавидеть режим, который убивал, бросал в тюрьмы и похищал их детей. Но как отделить личное от общественного в своей вражде с теми, кто хочет убить вас только потому, что вы попытались отстоять свои личные и общественные права.
После этого мозгового штурма я не могу злиться на своего терапевта и я избегаю его взгляда. Он полностью прав: я должна прекратить свой мирный спор и признаться, что я боюсь своих личных мыслей.
Я застенчиво улыбаюсь, как обычно, когда он успешно преодолевает мои попытки перехитрить его. Он побеждает все мои попытки притвориться сильной и весь мой чёрный сарказм и добивается верного ответа:
Не перешла ли я от раздумий от революции к раздумиям о войне и не полна ли я теперь, как война, болезней и смерти? Моё чувство вины не даёт мне закричать, что здоровая революция — в первую очередь — работа здоровых людей. Я боюсь Марсель, её одиночества, её запутавшегося компаса ценностей, её отношений с Богом, к которому она всегда обращалась до войны. Я боюсь встретиться с ней и прихожу в ужас.
Он просит меня для нашей следующей встречи поискать личные пространства, где я могу найти веселье. Я чувствую — а я люблю сложные вызовы, — что это может быть одно из самых сложных заданий для меня в этом году.
Личные? Например?